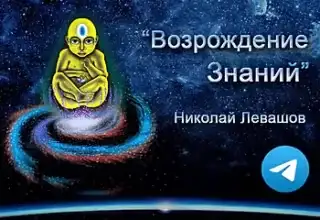Александр Семёнович Иванченко – очень интересный человек. Он служил в СВР и был контр-адмиралом Российского флота. В 1965 году, руководя (под псевдонимом) индонезийским флотом, подаренным СССР, смог победить в неравной схватке НАТОвский флот, в 2 раза более многочисленный. За это А. Иванченко был удостоен высшей награды Индонезии и являлся её почётным гражданином. Кроме этого, Александр Семёнович был старостой Мирового Общества Язычников, историком, путешественником, президентом нескольких известных европейских банков; гранильщиком драгоценных камней, хранителем ведических библиотек в Гималаях, Тибете и в Украине. Он автор песен «Гимн советских пограничников» и «Ридна маты моя, ты ночей не доспала», доктор нескольких наук, издатель журнала «Славяне». Посмертно издана его интереснейшая книга «Путями великого россиянина». В конце 90-х годов А. Иванченко написал книгу о судьбах многих разведчиков, работавших на Советский Союз. Книга называлась «Потерянные и преданные». Книга издана не была, его коллеги смогли конфисковать рукопись и все документы…
(См. статью «Урановые хитрости»)
Фрагмент из книги А. Иванченко «Путями великого россиянина»
…когда он впервые открыл передо мной большущую книгу, я помню, как по всему моему телу пробежали колкие мурашки, и я ошалело застыл, а моя двумя годиками старшая сестрёнка Верочка стояла рядом совершенно спокойная. Оказалось, она не видела ничего, кроме тех двух плоских чертёжиков, которые помещены на первой странице этой моей книги. Верочка видела только глазами, а не всеми клетками тела, как я.
Обладавшая удивительными для непосвящённого свойствами книга, открытая передо мной Зораном, была одной из наших обычных дохристианских книг, которые крестившие Русь христиане сжигали, как дьявольское «чернокнижие», хотя никакого отношения к чертовщине они не имели. Весь их секрет заключался в умении наших пращуров пользоваться биоэнергетикой.
Пергамент для них изготовлялся из кожи трёх-четырёхнедельных жеребят-сосунков. Мездровая её сторона выделывалась под мелковолокнистую замшу, обратная сторона – гладкая. Затем готовая кожа резалась на листы по длине в три четверти аршина (53,34 см) и 2,5 пяди (42 см) в ширину. С гладкой стороны листы, а также их торцы покрывались тонким слоем замешанного на яичном желтке порошка из обожжённой белой глины, которая теперь идёт на производства фарфора и фаянса. Из неё делаются также те белые чашечки, какие вы видите на всех столбах электролиний, – они обладают качеством диэлектрика и служат изоляторами.
Покрытая глиняным порошком сторона листов просушивалась на медных как бы противнях над слабым огнём в закрытом помещении, после чего листы переворачивались и в этих же медных противнях выставлялись на жаркое солнце, чтобы замшевая сторона пергамента напиталась солнечной энергией. Но замша вбирает в себя не всю энергию нашего светила, а только те его излучения, которые свойственны также биоэнергии. Теперь они заново не так давно открыты и названы Z-лучами.
Потом листы пергамента брошюровались, как современные толстые тетради с металлической спиралью на корешке. Но вместо такой спирали использовали согнутые в овальные кольца распаренные точёные прутики из хорошо высушенного бука или ясеня. Без учёта обитой тонкими медными листами обложки из досок морёного дуба книга делалась толщиной в четыре вершка (18 см). На обложке рунилось, то есть гравировалось её название. Чтобы оно лучше читалось, в бороздки букв заливалось серебро с чернью. Одновременно для книги изготовлялся такой же массивный дубово-медный футляр с закрывающейся на медные же застёжки-замки крышкой справа.
Книга мастерилась на века. Именно мастерилась, и с большой тщательностью, ибо для сохранности той информации, которую в неё заложат, каждая деталь её материала должна была обладать определёнными физическими качествами. До нас дошло много вавилонско-ассирийских глиняных «таблиц» с их клинописью. Клинообразные буквы выдавливали на сырой глине, которую потом высушивали и обжигали, как керамику. Говорю об этом, чтобы читатель сравнил для себя, как в те же прадавние времена создавали книги наши пращуры.
Сначала текст будущей книги росичи записывали заточенными, как карандаш, металлическим стилом на покрытых воском досках, где допускались какие угодно исправления и в самом тексте, и в сопровождавших его чертежах-символах. Автор не может писать сразу «набело». Стараясь точно передать свою мысль, он то «бежит» за ней, не заботясь о правописании, то ищет наиболее выразительные слова, зачёркивая одни и ставя где попало вместо них другие. Он – творец, а творчество рождается в муках. Тем не менее, главным в создании книги был не автор или группа авторов, а тот, который написанное на восковых досточках переписывал на пергаменте. Он писал гусиным или лебединым пером алыми чернилами, изготовленными из растворённый в спирте еловой живицы (смолы) и тонко растолоченной киновари.
Переписчиком мог быть не каждый, а только человек, обладавший богатым воображением и такими клетками тела, которые биоэнергию излучают. Тогда все картины, какие возникают в его воображении, вместе с его биотоками впитываются в пергамент, как на киноплёнку. Поэтому та сторона пергамента, на которой он пишет и чертит, выделана под мелковолокнистую замшу – чтобы увеличить её площадь. Ведь если растянуть каждую волокнинку замши, то общая её площадь получится во много раз больше, чем её обратная гладкая сторона, покрытая белой глиной. А такое покрытие сделано с той же целью, что и фарфоровые чашечки на столбах электролиний, – для изоляции, чтобы биоэнергия пишущего не проникла сквозь один лист пергамента на другой.
И смешанной с еловой живицей киноварью он писал тоже неслучайно. Клетки переписчика излучают биоэнергию, а мои устроены иначе, они принимают его биотоки, как телевизор, и всё, что возникало в его воображении, когда он писал, я вижу. И вместе с тем читаю текст, как титры в немом кинофильме. Потому что киноварь его энергию не впитывала, она проходила в пергамент только через смешанную с ней еловую живицу, которая в себе удерживает частички киновари. Благодаря этому и создаётся эффект титров, словно висящих в воздухе между тобой и теми живыми картинами, которые впитал в себя замшевый пергамент. Но моя сестричка Верочка картин не видела, так как глазами они не воспринимаются, глаза видят только написанное киноварью, а картины воспринимаются клетками тела, если им свойственно такое качество. Поэтому недавно умершая знаменитая болгарская прорицательница Ванга, будучи слепой, ясно видела всё живое и точно описывала словами внешность каждого, кто к ней приходил. Наши глаза не могут расшифровывать картины, закодированные в биотоках. Почему – я не знаю.
Мне самому кажется, что также как я, видят все, для меня это обыкновенно, но все говорят, что такая врождённая способность встречается у людей нечасто. Потому Зоран и приехал в нашу Мисайловку аж с Памира, специально, чтобы учить меня. Моя повивальная бабка Даромирка сообщила ему обо мне вскоре после моего рождения, и он приехал на два года к нам, когда я созрел для учёбы. Но мне ничего об этом не сказали, просто познакомили с очень интересным дедушкой, к которому я должен был приходить каждый день заниматься. Он поселился у Даромирки.
Высокий, суровый, с клином ниспадавшей на грудь льняного цвета бородой, Зоран держался со мной так, будто я был для него вовсе не мальчик, а ровня. Сегодня и мне с трудом верится, о каких материях он вёл со мной беседы, когда мне от роду было всего-то 4-5 лет. И вообще трудно, наверное, себе представить мальчика в таком возрасте кем-то вроде ученика платоновской академии. Но всё же, говоря об этом, я, вспоминая те годы, нисколько не склонен что-либо преувеличивать, да мне это и непозволительно.
(Сейчас, с вершины теперешнего своего возраста, мне любопытно взглянуть на того человечка, который был одновременно и обычным мальчиком, не чуравшимся ничего, что свойственно детству, и этаким маленьким босоногим мудрецом в коротких штанишках, рубашонке-разлетайке и чрезмерно широкополом клетчатом картузе, которого я терпеть не мог, но Зоран, заказавший его для меня в Богуславе, сказал, чтобы летом в солнечный день я без него на улицу не показывался, так, мол, необходимо. И до морозов со снегом велел ходить босым, хотя для лета у меня были распрекрасные парусиновые туфельки, а для осени – ботиночки. Однако я обязан был-де набираться силы земли).
Попробуй ещё не в морозы, а в заморозки появиться обутым. Зоран так глянет, будто иголками в тебя кинет. А Мирка ахает, словно Зоран не меня, а её всю взглядом своим проколол. Это я про себя так – Мирка – в отместку её обзывал, потому что она не любила, чтобы к ней обращались с уменьшительным именем – бабка Мирка вместо, как полагалось, Даромирка или в ласковом выражении Даромира. Закозыристая была – страсть. Не надо бабы Яги в компании с Кощеем Бессмертным. Но Кощей не Зоран, нет.
Ровней-то, ровней он держался со мной, но слова суетного не ронял. Я же к четырём своим годам умудрился прослыть в Мисайловке не только на наших Боднях, но даже в Надросье и на дальних Ярах несносным забиякой и шкодливым всюдусуйкой, отчего бабка Даромирка, как я теперь понимаю, пребывала в постоянной тревоге: вдруг выкину очередной коник и всерьёз рассержу Зорана, да он откажется со мной заниматься. А его-то она в Мисайловку не с ближнего света призвала. Не могло не тревожить её и другое, куда более существенное: Емеля-Мели-Неделя, авось про уроки Зорана зачну языком плескать. То несведущим кажется, что охота на «ведьм» сошла на нет в эпоху Просвещения. Как бы не так!
В 1931 году наш Наркомздрав созвал в Москве всесоюзный съезд экстрасенсов, около двухсот человек съехалось. Съезд продолжал работать полторы недели, пока все не выступили. Потом его участников пригласили якобы на обед в Кремль, на самом же деле на автобусах отвезли их за Москву и расстреляли где-то в лесу под Истрой. Случайно несколько человек на «званый кремлёвский обед» не попали, и кто-то из водителей тех автобусов, рискуя головой, их предупредил, чем спас жизнь и им самим, и многим другим, о ком никаких данных в Наркомздраве, видимо, не имелось и потому участи своих более известных коллег они избежали, но затаиться им пришлось очень надолго...