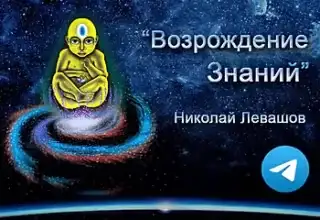Дроздов Иван Владимирович (р. 25.05.1922), писатель и общественный деятель, организатор трезвеннического движения. Родился в дер. Ананьино Бековского р-на Пензенской обл. в крестьянской семье. Участник Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945 на фронте, служил в авиации, затем в зенитной артиллерии, кавалер 5 боевых орденов и многих медалей. Его бронзовый бюст установлен в музее Великой Победы на Поклонной горе в Москве. В 1959 закончил Литературный институт им. Горького. Работал журналистом, сотрудник газеты «Сталинский сокол», обозреватель газеты «Известия». Долгое время был зам. гл. редактора издательства «Современник». Член Союза писателей России, вице-президент Международной Славянской академии.
Автор нескольких романов, из которых особенно известны своим патриотическим звучанием «Подземный меридиан» (1967), «Горячая верста» (1973), «Баронесса Настя» (1997), «Шальные миллионы» (1999), «Голгофа» (1999), «Последний Иван» (2000), «Ледяная купель» (2000), «Оккупация» (2001), «Похищение столицы» (2002), «Разведённые мосты», «Славянский котёл», «Суд идёт» и др. Принимает активное участие в трезвенническом движении, является руководителем общественной организации «За трезвость нашего народа», автор книг, посвящённых теории и практике работы по отрезвлению «Геннадий Шичко и его метод», «Унесённые водкой» и др.
Приобрести все изданные книги И.В. Дроздова можно, сделав запрос по адресу:
194156, г. Санкт-Петербург, а/я 73. Дроздовой Люции Павловне.
Фрагменты из романа «Оккупация»
…Теперь-то мы знаем, что и в 1921 году, и в 33-м голод нам устроили большевички в кожаных тужурках, народ вымаривали – вот как и теперь хотят, чтобы нас, русских, было мало. Но тогда-то… Ленин был для нас кумиром, почти Богом, а пламенных революционеров мы чтили, как наши отцы и деды чтили святых.
Народ доверчив, как дитя малое. Ему сказали, что Ленин наш отец родной – мы и поверили. А этот отец говорил, что пролетариату нечего терять, кроме собственных цепей, – мы и в это поверили.
А что у этого же пролетариата, кроме цепей, была ещё и Родина, и род, его породивший, и могилы предков – ну, это как-то отпало само собой. Нет Родины – и всё тут. Об этом же вроде бы и Карл Маркс, мудрец всех времён и народов, сказал, а если уж Карл Маркс… так уж тут цепляться за Родину, и за могилы предков…
Верили во всё это и тогда, когда от голода падали на улице и тихо без стона и жалоб умирали. В 1933-м будто бы на одной только Украине вымерло шесть миллионов человек, а у нас в России сколько полегло? Никто не считал. Русских много. Зачем их считать…
Романтики было много в те дни, когда мы войну с Победой окончили и домой возвращались. Я тоже, хотя и не сразу, поехал домой. Дома-то, правда, у меня не было, и даже города не было – Сталинград был дотла разрушен, но всё-таки было место, где завод мой и дома стояли. Туда и поехал. Ну, а потом в штаб своего округа вернулся. Сижу это я на скамеечке, приёма у начальства жду. Мимо подполковник проходит. Встал я, честь ему отдал.
– Как твоя фамилия?
Назвал я себя.
– Дроздов? Не твой ли очерк «Фронтовой сувенир» по радио читали?
– Было дело.
– И что? Куда теперь?
– В Сталинград поеду. Тракторный завод восстанавливать.
– Но ты же писать умеешь! Помнится, как у нас в штабе говорили: фронтовой командир, а как пишет. Айда к нам в газету!
– А вы что же… редактор?
– Бери выше; я всеми газетными кадрами в округе заправляю.
Подхватил меня за руку, повёл в кабинет. Там за большим столом маленький, похожий на галчонка, старший лейтенант сидел. Подвёл меня к нему:
– Вот тебе артиллерист настоящий и писать умеет – оформляй его в газету. Нам во Львове литсотрудник нужен.
И ушёл подполковник, а старший лейтенант долго рассматривал меня, точно я привидение…
– Как же вы… без образования в журналистику идёте? Журналист, это же… писать надо, сочинять: тут не только ум, но и талант нужен, это же… ну, вроде как маленький, начинающий писатель. А?.. Отказались бы.
– Как вы скажете; можно и отказаться.
Старший лейтенантик, так я его мысленно окрестил, поднял на меня большущие тёмные глаза, в них копошился сырой непроницаемый сумрак, покачал головой, что, очевидно, означало: «Надо же… какая наглость. В журналисты захотел». Но сказал он лишь одно слово: «Подождите», и вышел. Через минуту возвратился вместе с подполковником. Тот был взволнован, кричал:
– Вечно вы!.. Как русский, так вам дипломы подавай. А где он учиться мог – тебя он на фронте защищал! А твои соплеменники, между прочим, в Ташкенте отсиживались, да в институтах учились.
– Но ведь журналистика, – бормотал старший лейтенант, – сами же вы говорили.
– Ну, говорил – и что же, что говорил. Конечно же, хорошо, если с дипломом, но этот писать может. Очерк его по радио передавали, я ещё тогда думал: в газету бы этого парня.
Приказ о моём назначении был написан, и вот я во Львове, стою у входа в большое серое здание, где находится редакция…
Я уже вышел из кабинета и неспешно шагал по коридору, когда дверь распахнулась и разъярённый Арустамян прокричал мне вслед:
– Ты есть в редакции первый Иван и ты будешь последним!
Я пожал плечами и продолжал свой путь. Эта фраза Арустамяна, хотя она и была самой чёткой, осталась для меня непонятной. А она, между прочим, оказалась пророческой: четверть века спустя я буду уходить из редакции «Известий» и мне вдогонку скажут: «Последний Иван».
Да, я, как капитан корабля во время катастрофы, покину судно последним. Иванов в русской журналистике уже не оставалось, на смену им пришли инородцы, которых главный чекист страны Крючков назовёт «агентами влияния».
Но тогда, в начале 1947-го, до того времени было далеко. Тогда у руля великой империи стоял Сталин. Он произнёс здравицу в честь русского народа, – наверное, потому в редакциях газет стали появляться Иваны. Великий грузин смотрел далеко, он хорошо знал природу сил, затевавших уже тогда с нами Третью Великую войну, в которой главным орудием будут средства информации – и предусмотрительно выдвигал Иванов на переднюю линию боёв. Откуда мне было знать, что я и явился, может быть, Первым Иваном, брошенным на передний край уже тогда закипавшей битвы…
Капитан был толстый, красный, и кудряшки овечьих волос свалялись на его большой, лысеющей со лба голове. Я смотрел на него и думал: он, видно, хорошо питается, раз такой толстый. Но где же он берёт деньги? Не все же они, как Плоскин, печатают для грузин дипломы.
К слову тут скажу, что все евреи, служившие в штабе полка, хорошо и питались, и одевались, и имели отличные квартиры. Капитан же Смилянский, несмотря на свою молодость, – ему не было и тридцати, – и холостяцкое положение, имел двухэтажный особняк, принадлежавший ранее какому-то шляхтичу, а потом немецкому полковнику, коменданту Львова. В усадьбе Смилянского работал садовник, а еду готовила молоденькая полька, которая раньше была поваром у немца. Этот немец коллекционировал картины и китайский фарфор, – стащил к себе уйму всяких дорогих вещей, которые вместе с особняком перешли к Смилянскому.
Одно время его особняк хотели передать Арустамяну, начальнику Политотдела, но для полковника подобрали другой домик, ещё и получше, и маленький дворец, удачно расположившийся на склоне Высокого замка, остался у главного комсомольца дивизии. Сразу после освобождения Львова многие именитые горожане побросали свои дома, убежав с немцами на запад.
Для понимания природы взаимоотношений русских с евреями в советское время скажу, что моё поколение было воспитано на ложных идеях интернационализма, – в том плане, что мы, русские, большая могучая нация, должны пренебрегать своими интересами и заботиться вначале о братьях своих меньших, а уж потом о себе. Отсюда пошли и обустройство окраинных республик, прилепившихся к России, и поднятие целины в казахстанских степях, и всякие другие щедроты, сыпавшиеся на головы малых народов – и всё за счёт России, русских. Евреев мы любили особенно, как любят в семье больного ребёнка; ведь они несчастные, их везде и всегда обижали, и даже в давние времена случалось, что страшные египтяне или бешеные испанцы и совсем изгоняли из своих пределов.
И только вот теперь, при советской власти, русские возлюбили их настолько, что всюду пропускали впереди себя, и в институты принимали в первую очередь – их учили всех, поголовно, давали им высшее образование, а затем продвигали вперёд и выше – в научные учреждения, в министерства, обкомы, органы надзора. Освобождали от работы на шахтах; женщины ещё трудились под землёй, а евреи нет, и в колхозах их не было, а чтобы женщина-еврейка работала на строительстве плотин, мостов, шоссейных и железных дорог – этого уж и помыслить нельзя. Для таких дел хватало славянок. И это считалось правильным и как бы одобрялось сверху, а наверху у нас восседала партия – «ум, честь и совесть эпохи». Она-то уж во главе со Сталиным, отцом народов, знала, где и кто должен трудиться.
Я был продуктом эпохи, к евреям относился с любовью, жалел их и недоумевал, если кто-нибудь при мне позволял о евреях сказать что-нибудь плохое. О русских – говори, об украинцах – тоже, о грузинах, киргизах, чукчах – потешайся, даже анекдоты рассказывай, но о евреях! – молчок. Не надо. Евреи самые умные, они хорошие. А тот, кто их недолюбливает – злодей. Заметьте: недолюбливает! Любит, но не до конца. И уже – злодей. Чуть ли не преступник. Так мы относились к евреям…
Теперь, спустя более полстолетия после этих событий, я уже знаю, что такая крутая брань в адрес евреев замешивалась и вбрасывалась нам в голову самими же евреями. Сталин-то со Ждановым, отдавая приказ на развязывание борьбы с космополитами, не сумели оценить того факта, что борьбу-то эту они поручают не русскому человеку, который только что вернулся с фронта и примеривался, как спасти себя и свою семью от голодухи и как устраивать свою жизнь дальше. Борьба-то эта велась не из пушек, где мы приобрели немалый опыт, а со страниц газет, где сидели те же львовы, фельдманы, кацы, рабиновичи. А они-то уж знают, как обратить любую кампанию на свою пользу. Я потом приеду в Москву, буду работать в «Известиях» – поднимусь на самую вышку журналистской иерархии, стану экономическим обозревателем, меня привлекут к писанию докладов главам государства – вначале Хрущёву, а затем Брежневу; многое мне откроется на этих ступеньках партийной кухни. Тайны еврейского ума я постигал на каждодневных совещаниях «узкого круга» в кабинете главного редактора, коим был зять Хрущёва, бухарский еврей Алексей Иванович Аджубей…
На следующий день я стал отцом, у нас родилась девочка, которую мы назвали Светланой. Я уже предвкушал минуту, когда приду за Надеждой и приведу её вместе с дочкой на новую квартиру, которую я успел вычистить, вымыть и перенести в неё весь наш нехитрый скарб. Но как раз в это время на меня свалилось горе, которое придавило точно камнем. В больнице перед тем, как выписать Надежду, меня пригласил врач, маленький человек с бородкой, и на ломаном русско-украинском языке сказал, что моя дочь больная и на всю жизнь останется глубоким инвалидом. Отворачивая взгляд в сторону, намекнул, что подобных детей не обязательно брать, их можно оставить и в больнице. Слушал я его как в тумане, как в глубоком горячечном бреду. И когда до меня дошёл смысл его последнего предложения, поднялся и не своим голосом прокричал:
– Давайте мою дочь! Сейчас же!..
Ребёнка завернули, и я бережно взял дочурку на руки. Надежда, её мама и старшая сестра Рая шли позади и оживлённо разговаривали и смеялись, – я понял, они не знают о болезни ребёнка. Их смех мне казался ужасным святотатством, но я им не мешал, сердце моё учащённо билось, в голове электрической искрой металась мысль: инвалид, инвалид, инвалид!..
Тёща засветила надежду: врач-то и ошибиться мог! И просто гадость захотел сказать. Вспомнил чьи-то разговоры о врачах-бендеровцах, о том, что, принимая младенцев при родах, они как-то ловко, движением большого пальца делают подвывихи в суставах и причиняют другие увечья. «Если так, – клокотала в голове ненависть, – застрелю этого козла!» – вспоминал я врача с бородкой.
– Ты что невесёлый? – повернулась ко мне Рая. – Сына небось ждал, а родилась дочь. Подожди вот, привыкнешь к ней и так будешь рад…
– Да, да, – я рад, но только мне показалось… очень уж она маленькая.
– Как маленькая! – воскликнула Рая. – Три с половиной килограмма весит, а он – маленькая.
Я сходил на кухню, принёс тарелки, вилки, и мы стали накрывать стол. Я тогда ничего не сказал Надежде, но скоро мы убедились, что дочь наша здоровая, весёлая и быстро развивается. Я потом ходил в родильный дом, обо всём рассказал главному врачу, и он мне не возражал и даже подтвердил, что в наследие от бендеровцев им действительно остались врачи-изверги, но тот с бородкой уж больше вредить не будет, его арестовали, был суд, и там выяснилось, что он продавал младенцев каким-то западным торговцам детьми. Врача этого будто бы расстреляли.
Тут будет уместно сказать, что дочь моя Светлана была абсолютно здоровой девочкой, в девять месяцев стала ходить, а в пятнадцать лет стала настоящей невестой. Она мне подарила трёх внуков, правнука и правнучку; преподаёт в школе русский язык и литературу и пользуется всеобщей любовью своих учеников…
Два события, словно тракторным плугом, пропахали борозду в моём сознании в эти первые годы послевоенной жизни: одно событие – это начатая Сталиным и кем-то внезапно прерванная кампания борьбы с космополитизмом и второе – попытка трёх старших офицеров сделать из меня преступника. Мне как бы приоткрылась дверь, через которую я увидел евреев. Я, конечно, и раньше их видел; еврейка служила у меня на батарее, несколько евреев мы видели в штабе полка, наконец, я слышал о них много анекдотов, но все нелестные аттестации, все мои невольные наблюдения не касались еврея, как национальности, они каждый раз относились к тому или другому человеку, но национальность?..
А тут мне в голову бросилась иная мысль: они не такие, как мы. У них нет Родины. Бродяги, не помнящие родства. Недобрая молва о них, в том числе недавно прошумевшая, не напрасна. Ведь это партия – ум, честь и совесть эпохи – призывала нас бороться с ними. Но даже и кампания борьбы с космополитизмом не внесла заметных корректив в моё сознание. Но вот случилась история с квартирой и тремя офицерами… Надо было, чтобы оса ужалила, чтобы я посмотрел на неё и подумал, что же это за насекомое такое, которое так больно жалит? Это как по пословице: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»…
Троцкий в своё время на радостях воскликнул: «Будь проклят патриотизм!» Зиновьев требовал от партии «подсекать головку нашего русского шовинизма», «калёным железом прижечь всюду, где есть хотя бы намёк на великодержавный шовинизм». Теоретик партии Бухарин разъяснял: «…мы в качестве бывшей великодержавной нации должны… поставить себя в неравное положение в смысле ещё больших уступок национальным течениям». Великий Отец народов Coco Джугашвили, то есть Сталин, почти до самой войны упорно повторял, что «великодержавный шовинизм является главной опасностью в области национальной политики».
Слово «русский» становилось ругательным, оно исчезло со страниц школьных учебников, из газет, журналов, а потом и со страниц книг художественной литературы. Армия русских писателей, которую возглавил Максим Горький, принялась старательно утюжить мозги доверчивых соотечественников, железной метлой выметала из сознания читателей всё, что касалось подлинной истории русского государства.
Безыменский выговаривал мечту своих сородичей:
О скоро ли рукою жёсткой
Рассеюшку с пути столкнут?
Ещё круче выражался Александровский:
Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?
Что же! Вечная память тебе.
Евреям удалось с 1917 года установить табу на изучение сущности еврея. Я теперь, взошедший на рубеж двадцатого столетия, могу сказать: запрет на изучение еврея и еврейства был величайшим вашим достижением, господа иудеи. Но этот же запрет и сыграл с вами злую шутку. На глазах у одного лишь поколения вы в России из элитного, самого привилегированного народа превратились в так называемый «малый народ», над которым чёрным и зловещим облаком повисло проклятье русских людей. Вам теперь неуютно и зябко, вы толпами бежите из России, ищете уголок, где вас плохо знают.
Вас окончательно разоблачили любимые вами же молодые реформаторы-ельцинисты гайдары, чубайсы, немцовы. Захватив наши деньги, забежав в кремлёвские коридоры, они остановили заводы и шахты, обескровили армию, разорили всю страну. Ваши кумиры и вундеркинды стали самыми презренными людьми в России, во всём славянском и арабском мире. Ненависть к ним опрокинулась на ваши головы. Вам теперь одно осталось: бежать из России, – и так, чтобы вас не нашли и не догнали…
«На Западе давно смирились с засильем евреев, покорно отдали им власть. Гитлер восстал против них – и ты знаешь, что из этого вышло», – заключал Ильин какую-нибудь длинную свою тираду. А однажды рассказал забавный случай, происшедший в Париже. Туда приехал в эмиграцию отец писателя Куприна. Он был полковником царской армии, известным в России человеком, и к нему на вокзале подступились корреспонденты парижских газет. Задавали вопросы:
– Как там, в Петербурге, укрепилась советская власть?
– Да, укрепилась, – отвечал полковник.
– А в Москве?
– И в Москве тоже.
– А во всей России?
– Нет, не укрепилась. На всю Россию у них жидов не хватило.
Этот его ответ был напечатан во всех газетах…